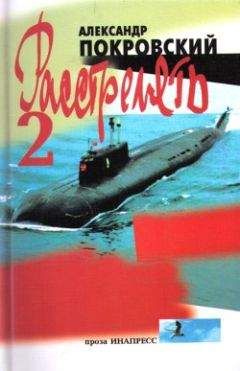— Серёга.
— А меня — Саня.
Серёга тоже улыбнулся и сразу же его простил. Долго дуться он не умел.
— Слышь, Серёга,— как-то по-деловому заговорил «промасленный»,— ну-ка сделай так руку.
Серёга, ничего не понимая, «сделал». «Пятнистый» тут же натянул ему свою повязку по самую подмышку и подошёл к переговорному устройству.
— Есть центральный!
— Объявите по кораблю: в дежурство вступил лейтенант Самоедов!
Потом он мгновенно снял с себя портупею и сунул её Серёге, потом он снял у Серёги с головы фуражку, спросил у него: «Это что у тебя, фуражка, что ли?» — и поменял её на свою пилотку.
— Слышь, Серёга! — кричал он уже на бегу, лягая воздух.— Постой дежурным немножко! Я скоро! Минут через сорок буду! Помоюсь только! Тут недалеко!!!
— А где командир?! — не выдержал одиночества Серёга.
— А чёрт его знает! — кричал уже за горизонтом «промасленный», подпрыгивая, как сайгак.— Неделю стою, и никого нету! Я скоро буду! Не бойся! Там всё отработано!.. До безобразия! Давай!!!
Пришёл он в понедельник.
Святое дело. Раз! два! три!
Человечество должно быть готово к тому, что военнослужащий может выпасть откуда угодно в любую секунду, особенно после любви.
В четыре утра курсант третьего курса Котя Жеглов, настойчивый, как молодая гусеница, полз домой — в родное ротное помещение — по водосточной трубе.
Котя возвращался из самовольной отлучки.
С трудом оставленные жаркие объятья делали его движения улыбчиво сытыми и заставляли со вздохом припадать к каждому водосточному колену.
Воркующий, ласковый шепот, волос душистые пряди, сладкая горечь губ; поспать бы чуть-чуть, чтобы снова вдохнуть эти пряди, и щебет, и горечь…
Ещё немного, и Котя стал бы поэтом, но Котя не стал поэтом — на третьем этаже колена разошлись.
Сквозь застывшие блаженные губы Котя успел набрать очень много воздуха. В наступающем рассвете начертился скрипучий полукруг с насаженным сверху Котей. Так мухобойкой убивают муху.
После страшного грохота наступила тишь, и пыль, полетав, рассеялась. Среди остатков скамейки с каменной улыбкой навстречу солнцу сидел Котя и руками, и немножко ногами, сжимал кусочек водосточной трубы.
Отовсюду струился набранный Котей воздух.
Знаете, как было тяжело?
Нет, не с трубой. Её отняли ещё на операционном столе. С улыбкой было тяжело. Она никак не гасла сама.
Руками. Добрыми руками.
Она стиралась только руками.
Целую неделю.
Иду я в субботу в 21 час по офицерскому коридору и вдруг слышу: звуки гармошки понеслись из каюты помощника, и вопли дикие вслед раздались. Подхожу — двери настежь.
Наш помощник — кличка Бес — сидит прямо на столе, кривой в корягу, в растёрзанном кителе и без ботинок, в одних носках, на правом — дырища со стакан, сидит и шарит на гармошке, а мимо — матросы шляются.
— Бес! — говорю я ему.— Драть тебя некому! Ты чего, собака, творишь?
Бесу тридцать восемь лет, он пьянь невозможная и к тому же старший лейтенант. Его воспитывали-воспитывали и заколебались воспитывать. Комбриг в его сторону смотреть спокойно не может: его тошнит.
Бес перестает надрывать инструмент, показывает мне дырищу на носке и говорит:
— В о т э т о — п р а в д а ж и з н и… А драть меня — дральник тупить… Запомните… уволить меня в запас н е в о з м о ж н о… Невозможно…
— Ну, Бес,— сказал я улыбаясь, потому что без улыбки на него смотреть никак нельзя,— отольются вам слезы нашей боеготовности, отольются… у ч т и т е, вы доиграетесь.
После этого мы выпили с ним шила, [2] помочились в бутылки и выбросили их в иллюминатор.
Наутро я его не достучался: Бес — в штопоре, его теперь трое суток в живых не будет.
Автономка подползла к завершающему этапу.
На этом этапе раздражает всё, даже собственный палец в собственном родном носу: всё кажется, не так скоблит; и в этот момент, если на вас плюнуть сверху, вы не будете радостно, серебристо смеяться, нет, не будете…
Врач Сашенька, которого за долгую холостяцкую жизнь звали на экипаже не иначе как «старый козёл», заполз в умывальник.
Во рту он держал ручку зубной щётки: Сашеньке хотелось почисть зубки.
Сашенька был чуть проснувшийся; последний волос на его босой голове стоял одиноким пером.
В таком состоянии воин не готов к бою: в глазах — песок, во рту — конюшня, в душе — осадок и «зачем меня мать родила?». Жить воин в такие минуты не хочет. Попроси у него жизнь — и он её тут же отдаст.
— Оооо-х! — проскрипел Сашенька, сморкнувшись мимо зеркала и уложив перо внутренним займом.— Г д е м о я а м б р а з у р а…
Хотелось пить. За ужином он перебрал чеснока, перебрал. В автономке у всех бывает чесночный голод. Все нажираются, а потом хотят пить.
«Чеснок — это маленькое испытание для большой любви»,— некстати вспомнил Сашенька изречение кают-компании, потом он вытащил изо рта ручку зубной щётки, плюнул в раковину плевральной тканью и открыл кран.
Зашипело, но вода не пошла.
— Ну что за половые игры? — застонал Сашенька и рявкнул: — Вахта!
Вахты, как всегда, под руками не оказалось.
— Проклятые трюмные. Вахтааа!!!
Что делает военнослужащий, если вода не идёт, а ему хочется пить? Военнослужащий сосёт!!! Так, как сосёт военнослужащий, никто не сосёт.
Сашенька набрал полный рот меди и скользко зачавкал: воды получилось немного.
— Ну, суки,— сказал Сашенька с полным ртом меди, имея в виду трюмный дивизион, когда сосать стало нечего,— ну, суки, придёте за таблетками. Я вам намажу…
Это подействовало: кран дёрнулся и, ударив струей в раковину, предательски залил середину штанов.
Чёрт с ними. Сашенька бросился напиваться. Вскоре, экономя воду и нервы, он закрыл кран и приступил к зубам.
Хорошо, что нельзя наблюдать из раковины, как чистятся флотские зубы. Зрелище неаппетитное: шлёпающий рот удлиняется белой пеной, всё это висит… В общем, ничего хорошего.
Монотонность движения зубной щётки по зубам убаюкивает, расслабляет и настраивает на лирический лад. Сашенька мурлыкал орангутангом, когда ЦГВ — цистерна грязной воды — решила осушиться. Бывают же такие совпадения: полный гидрозатвор сточных вод, с серыми нитями всякой дряни, вылетел ровно на двадцать сантиметров вверх и, полностью попав в захлопнувшийся за ним рот, полностью вышел через ноздри.
Чеснок показался ландышами. Сашенька вышел из умывальника, опустив забрало. Первого же, так ничего впоследствии и не понявшего трюмного он замотал за грудки.
— Ну, ссу-киии,— шипел он гадюкой,— придёте за таблетками. Я вам намажу. Я вам сделаю…
И всё? Нет, конечно. Центральный всё это тут же узнал и зарыдал, валяясь вперемешку.
— Оооо,— рыдал центральный,— полное йеб-лоооо…
Я их добывал летом в Мурманске. Летом из Мурманска улететь было невозможно. За полгода в нашем посёлке составлялись какие-то списки, люди ходили на переклички, отмечались. А я не ходил. Я сразу ехал в аэропорт, где в тот момент стояло, сидело, шлялось, лежало на стульях трое суток подряд двести человек с детьми и кошёлками. И все они хотели улететь. Куда угодно. Хоть в Ташкент, хоть в Караганду. И я хотел. Я записался двести первым и при этом спросил, не пробовал ли кто-нибудь выбить дополнительные рейсы, на что все рядом гнусно захихикали и предложили мне этим заняться. А я сказал, что могу заняться немедленно, если они мне пообещают, что в случае удачи я улечу первым. И они пообещали, а я направился к начальнику смены, прихватив с собой несколько болельщиков.
Начальник смены был похож на высохшую выдру, которая мечтает о воде в грязной клетке.
И я к нему обратился. Я спросил, почему у них такое напряжение с рейсами. Почему заранее не планируется сезонное перемещение людей, почему из года в год не прогнозируется ситуация.
— Жалуйтесь куда угодно,— сказал он мне выцветшим голосом.
— Ага! — сказал я и для начала записал в его жалобной книге всё, что я думаю об «Аэрофлоте», аэропорте, об их буфете и о нём лично. Потом я передал этот напряжённый документ своим зрителям, и они в нём тоже вдоволь напачкали.
После этого я позвонил в ЦК. Наш народ в начале 80-х был невероятно труслив. Он готов был спать на полу, но только чтоб не звонить в ЦК. А я позвонил. В зале ожидания была почта и переговорный пункт. Я зашёл, открыл дверь телефонной кабины, чтобы всем было слышно, набрал код Москвы, потом справочную, и девушка мне рассказала, как позвонить в ЦК.
ЦК, казалось, только сидел и ждал, когда я им позвоню, и голос у них был такой бархатный, что дальше некуда. И я им поведал, что нахожусь в Мурманске, в аэропорту, и что вместе со мной здесь двести человек, которые тоже хотят улететь и потому просят дополнительных рейсов.